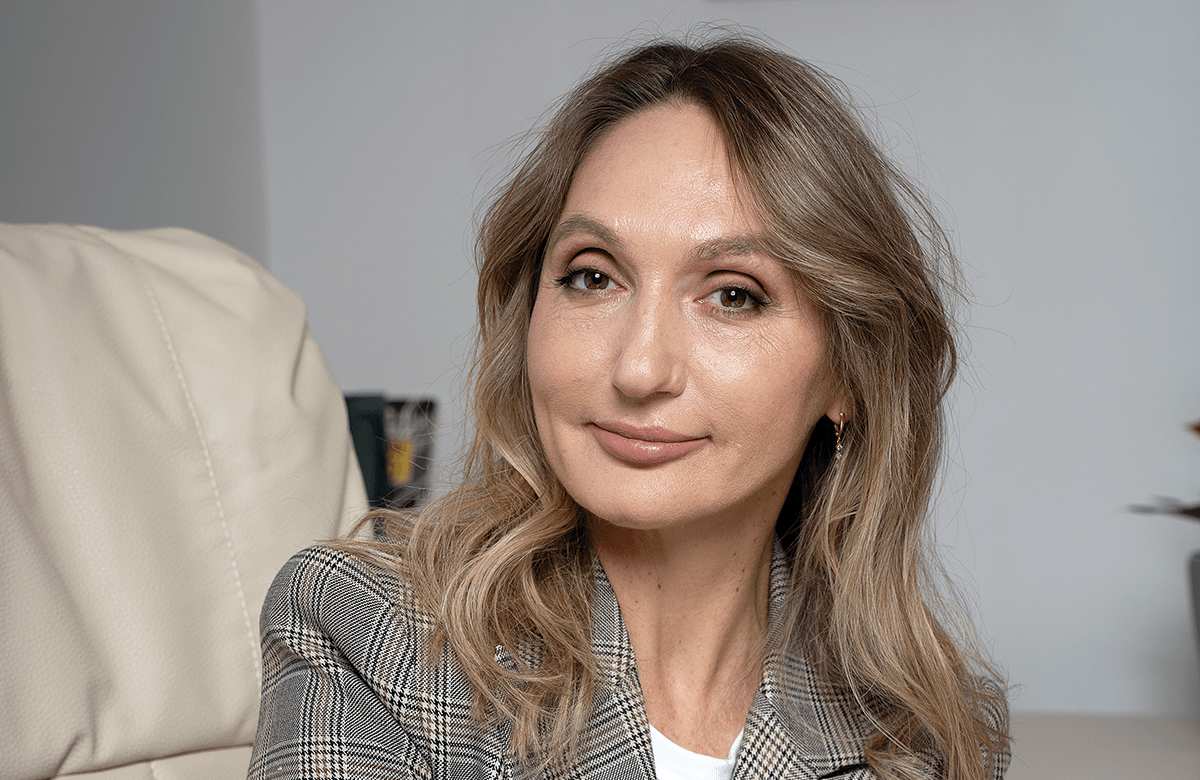- 11 мая, 2025
Как помочь жертвам утечек?

На сегодняшний день не существует общепринятых подходов для оценки последствий утечки персональных данных. Генеральный директор ГК «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов предлагает задуматься о создании специального фонда для выплаты компенсаций пострадавшим и внедрения системных мер по борьбе с мошенниками.
ССТ: В интернете уже есть огромное количество утекших персональных данных, мошенники похищают в сети миллиарды со счетов граждан, но судебных дел в отношении виновников утечек практически нет. Нужно ли в такой ситуации киберстрахование, и возможно ли реально рассчитать убыток по этому риску?
Игорь Фатьянов: Действительно, есть штрафы за нарушения в работе с персональными данными, но они не являются естественной оценкой потерь — это мера наказания. А вот какой-то общепринятой нормы расчета потерь конкретных граждан в результате утечки информации до сих пор нет.
Дело в том, что утечка базы данных не приводит к прямой и однозначной потере средств у граждан. Мошенники через какое-то время могут воспользоваться этими данными, а могут и не воспользоваться. Дальше человек может попасться на удочку мошенников, а может проявить бдительность и сохранить свое имущество. Утечка даже относительно небольшой в техническом смысле базы может привести к потере миллиардов. Однако практика показывает, что большинство людей не понесут издержек.
Поэтому даже более-менее точной оценки компенсации просто за факт утечки данных пока не существует. Суды в принципе имеют определенные подходы по оценке ущерба личности от тех или иных действий, однако на утечки, связанные с персональными данными, они пока не распространяются. Скорее всего, это связано отчасти с пробелами в законодательстве, отчасти с отсутствием правоприменительной практики.
ССТ: При этом из-за утечек данных страдают десятки тысяч людей, у стариков отбирают последние деньги. Законодательство ведь должно формироваться под задачи развития общества. Как выходить из этой ситуации?
И. Ф.: Мы действительно не видим прямой связи между когда-то произошедшей утечкой персональных данных и действиями мошенников спустя полгода. То есть понятно, что они где-то эти данные получают, но в дальнейшем конкретная утечка и конкретные потери никак не связаны с точки зрения информации.
На мой взгляд, здесь необходимо сформировать определенный набор защитных мер. Общество должно финансировать системные действия по выработке мер безопасности. Ведь проводятся мероприятия по обучению правилам дорожного движения — точно так же нужны меры, которые защищали бы жертв утечек персональной информации и компенсировали им ущерб.
Мы действительно не видим прямой связи между когда-то произошедшей утечкой персональных данных и действиями мошенников спустя полгода.
ССТ: Какие инструменты могут быть для этого использованы?
И. Ф.: Например, могут создаваться специализированные фонды. Они должны финансироваться за счет тех, кто допустил утечку персональных данных. Это более эффективно, чем платить по 30 или 50 тыс. руб. всем, чьи данные утекли. В этом случае большая часть денег просто разойдется среди тех, кто не испытал каких-либо негативных последствий. А вот действительно пострадавшие не получат адекватной компенсации, да и дополнительные меры безопасности не будут профинансированы. Таким образом, создание фонда — это более эффективный механизм, чем просто штрафовать компании.
Из таких защитных фондов можно будет оплачивать работу специальных телефонных фильтров, которые помогут защищать граждан от мошенников, а также напрямую компенсировать потерю денег пострадавшим.
ССТ: Как должна работать такая модель?
И. Ф.: Допустим, из банка утекли данные о тысяче человек. Он перечисляет в специализированный фонд взнос в размере, пропорциональном объему этой утечки, условно, за тысячу человек — 10 млн руб. И фонд на эти деньги занимается обучением граждан правилам финансовой безопасности, платит Касперскому, чтобы он защищал телефоны, а также производит выплаты людям, пострадавшим от мошенников.
Расчет примерно такой.
Штраф за каждую утекшую запись составляет около 1 тыс. руб., взносы за 10 млн записей сформируют фонд на 10 млрд руб. Если у нас будет примерно 100 тыс. человек, которые из-за утечки информации потеряли по 100 тыс. руб., то общая сумма ущерба составит те же 10 млрд руб. в год.
ССТ: Это должен быть государственный фонд или он может быть страховым?
И. Ф.: Здесь нет противоречия. Механизм, который пополняет фонд, в принципе, конечно, страховой. Но этот фонд может быть и государственным.
Кроме ущерба для граждан, утечка сама по себе несет много рисков для бизнеса. Полис позволяет компенсировать ущерб, но задача мер безопасности — это снижение вероятности утечки. Страховой полис покрывает те риски, которые остались уже после применения мер безопасности.
Техническими средствами можно существенно снизить вероятность наступления страхового случая, но не сделать ее нулевой. Этот остаток вероятности потери и закрывает страховой полис. Очевидно, что если не применять технические средства защиты в принципе, вероятность становится настолько большой, что стоимость полиса превышает разумные пределы. В этом случае она будет сравнима с лимитом ответственности.
Напротив, применяя меры, компания последовательно снижает вероятность утечки. После того, как будет достигнут какой-то разумный уровень, оставшиеся проценты вероятности можно закрыть полисом. Потому что каким бы малым ни был процент вероятности, если риск все-таки наступит, ущерб для компании может быть непереносимым.
ССТ: От каких убытков можно застраховаться, оформив страхование киберрисков?
И. Ф.: Комплексный полис киберстрахования компенсирует самые разные виды потерь: расходы, связанные с восстановлением ИТ-инфраструктуры и устранением вредоносного кода, компенсация ущерба от простоя бизнеса, расходов на восстановление потерянных данных, на уведомление пострадавших и др.
Каким бы малым ни был процент вероятности, если риск все-таки наступит, ущерб для компании может быть непереносимым
Расходы на экспертизу и расследование также могут быть достаточно существенными. Кто нанимал специалистов по информационной безопасности, знает, что их работа стоит очень недешево, и длиться она может месяцами.
В принципе, это основные лимиты, которые у нас покрываются полисом.
ССТ: На какие объемы можно заключить договор?
И. Ф.: Сегодня предлагаются лимиты от 100 до 500 млн руб., самый распространенный — 100−200 млн. Лимит может быть увеличен, но при наличии разумной политики защиты информации восстановление данных вряд ли обойдется дороже. Работа экспертов и специалистов будет стоить от 10 до 30 млн руб.
То есть, этот лимит покрывает простой бизнеса в течение разумного периода времени. Допустим, норма прибыли составляет порядка 100 млн руб. в день для некрупного предприятия. Подчеркну, это потери, связанные с одним инцидентом.
ССТ: Что может рассматриваться как причина страхового случая? От каких рисков можно застраховаться?
И. Ф.: Может быть застрахована ошибка при обновлении IT-систем. Здесь мы можем исходить даже из более широкого списка причин сбоя, так как конкретную причину порой не удается установить. Отдельно в полис может быть включен риск DDoS-атаки — это хакерские атаки на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, когда система забивается фальшивыми запросами и просто не может работать. Также страхуется потеря доступа к данным, несмотря на то, что они остаются в наличии.
Все эти риски могут быть достаточно эффективно покрыты в соответствии с нашими программами, которые соответствуют лучшим мировым практикам международных компаний.
ССТ: Как при оценке риска учитывается влияние человеческого фактора?
И. Ф.: Человеческий фактор — это вообще главное. Прежде всего, мы оцениваем процедуры управления на конкретном предприятии. Грубо говоря, смотрим, проверяет ли служба безопасности сотрудников при найме, уточняем, как часто проводится внутренний аудит, насколько тщательно разработана специальная нормативная база. Иными словами, оцениваем зрелость процессов информационной безопасности на предприятии страхователя.
ССТ: Насколько страхование киберрисков в принципе востребовано? Что нужно сделать, чтобы оно активно развивалось, как развивается само киберпространство?
И. Ф.: Страхование в этой сфере очень сильно завязано на инфраструктуру и развитие законодательства. Прежде всего, я имею в виду требования законодательства в части защиты персональных данных. Меры, применяемые на практике для возмещения ущерба, уровень доходов и возможности предприятий по оплате страховых услуг — это, конечно, тоже важные факторы. Не последнее значение имеет развитие продукта на стороне страховщиков. Сейчас рынок по этому направлению достаточно быстро и хорошо развивается.
Человеческий фактор — это вообще главное. Мы оцениваем процедуры управления на конкретном предприятии. Грубо говоря, смотрим, проверяет ли служба безопасности сотрудников при найме.
В целом, основных предпосылок для развития киберстрахования сегодня две. С одной стороны, экспозиция компаний, то есть их подверженность этому риску растет в связи с тем, что ИТ-технологии все больше проникают в каждую отрасль. С другой стороны, активно развивается законодательство, регулирующее защиту персональных данных. Конечно, пока не каждый бизнес может себе позволить страховой полис от киберрисков, но число наших клиентов растет достаточно уверенно.